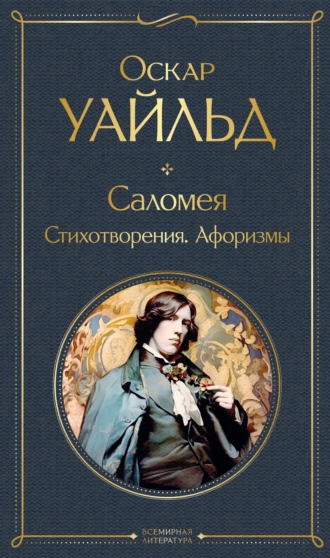© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Оформление серии Н. Ярусовой
De profundis
Записки из Редингской тюрьмы
…меня хотят поставить наряду с Жиль де Ретцом и маркизом де Садом. Пусть будет так! Я не буду жаловаться на это. Один из многих уроков, которые выносишь из тюрьмы, тот, что все на свете существует так, как существует, и во веки веков останется таким.
Не сомневаюсь я нимало и в том, что средневековый распутник и автор «Жюстины» – все же лучшие собеседники, чем Зандфорт и Мэртон, герои наших детских книг…
…Все это разыгралось в первой половине ноября, два года тому назад. Широкий жизненный поток унес нас от того мгновения, что осталось далеко позади. Кто живет на свободе, тот едва может окинуть взглядом такой промежуток времени – а может быть, не может и вовсе.
У меня же такое чувство, как будто со мною это было сегодня, я не скажу даже – вчера.
Страдание – бесконечно длинное мгновение. Его не разделишь на времена года. Мы можем только отмечать его оттенки и вести счет их правильным возвратам.
Время не двигается для нас само. Оно вращается. И кажется, оно вращается вокруг одной точки: страдания.
Парализующая неподвижность жизни установлена во всем по неизменному шаблону: мы пьем и едим, нас водят гулять, и мы ложимся спать, мы молимся – или по крайней мере становимся на колени для молитвы – по непреложным правилам железных предписаний. И эта неподвижность, благодаря которой каждый новый день своими ужасами напоминает до мельчайших подробностей прошедший, как будто сообщается и тем внешним силам, чья сущность – вечная смена.
Посев и жатва, жнецы, что убирают хлеб, виноградари, которые выжимают виноград, трава в саду, на которой лежит белое покрывало опавших цветов или рассыпаны созревшие плоды, – мы ничего не знаем об этом и не можем знать ничего.
У нас одно время года: время скорби. Нас лишили солнца и луны. Пусть на дворе сверкает день лазурью и золотом, свет, что вползает сквозь тусклое стекло, в окно с железной решеткой, за которой мы сидим, скуден и сер. Вечные сумерки в нашей камере и как вечные сумерки в нашем сердце.
И в области мысли, как в области времени, больше нет движения. Что вы забыли или можете легко забыть, занимает меня сегодня и будет меня занимать завтра. Взвесьте это, и вы хоть сколько-нибудь поймете, почему я пишу, и я пишу именно так, а не иначе.
…Неделю спустя меня перевезли сюда. Прошло три месяца, и умирает моя мать. Никто не знает, как я любил и как чтил ее, ее смерть была ужасна для меня, но я – когда-то властитель слова – не нахожу слов, чтобы выразить мое горе и мой стыд.
Никогда, даже на вершине моего художественного творчества, не был бы я в состоянии одеть достойными словами такую великую скорбь и найти достаточно возвышенные звуки, чтоб выразить пурпуровое зрелище моей невыразимой муки.
От матери и от отца я унаследовал имя, которое они сделали славным и почетным не только в литературе, искусстве, археологии и естествознании, но и в истории моей родины и в ее политическом развитии.
Я опозорил это имя навсегда. Я сделал из него вульгарное, бранное слово в устах вульгарных людей. Я втоптал его в грязь. Толпе грубых негодяев, захватавших его руками, отдал я его на поругание – врагам моим, для которых оно стало синонимом сумасшествия.
Как я страдал тогда и как еще страдаю теперь – не описать пером и не воспримет бумага. Жена моя, всегда добрая и милая ко мне, не захотела, чтобы я услыхал из равнодушных уст известие об этой смерти, и, несмотря на свое нездоровье, сделала весь длинный путь от Генуи до Англии, и сама привезла мне весть о моей незаменимой, неизмеримой утрате. От всех, кто мне был предан, доходили до меня выражения соболезнования. Даже люди, не знавшие меня лично, услышав о новом ударе, постигшем меня в моем несчастье, передавали мне слова сочувствия.
…Прошло еще три месяца. Таблица о моем каждодневном поведении и о заданной мне на день работе, которая висит снаружи, на двери моей камеры – тут же и мой приговор, – говорит мне, что на дворе май…
…Счастье, благополучие и успех могут быть грубы по внешности и вульгарны по сути: страдание – самое нежное во всем творении.
Нет ничего в мире души, что не дрожало бы под ударами страдания страшным и утонченным трепетом. В сравнении с ним груб даже тонкий листок сусального золота в электроскопе, указывающий направление незримых для глаза сил. Страдание – рана, откуда сочится кровь, когда до нее дотрагиваются иной рукой, чем рукой любви, – впрочем, и тогда кровь сочится из нее, хотя уже не от боли.
Где страдание, там святая земля. Когда-нибудь человечество поймет, что это значит. До той поры оно не знает жизни. Робби и существа ему подобные могут это понять. Когда меня меж двух полицейских вели из тюрьмы в суд, в длинном коридоре ждал Робби, и, к удивлению большой толпы, которая смолкла перед его милым, трогательным поступком, он просто и серьезно снял шляпу передо мной, когда я в наручнях, со склоненной головой, прошел мимо него.
За более ничтожные заслуги люди попадали в царство небесное. Одушевленные таким чувством, исполненные такой любви, святые становились на колени перед нищими, чтобы омыть им ноги, наклонялись, чтобы поцеловать прокаженного в лицо.
Я никогда не проронил Робби ни слова об этом. До сего часа я не знаю даже, видел ли он, что вообще я заметил его поступок. За это нельзя воздавать обычных благодарностей обычными словами.
В сокровищнице своего сердца сберегаю я эту благодарность. Пусть покоится она там, как тайный долг, который я, к моей радости, никогда, вероятно, не отдам. Она забальзамирована и сохраняет свой милый облик благодаря мирре и нарду долгих слез.
Когда ум казался мне ничтожным, философия – бесплодной, когда слова и фразы тех, кто хотел меня утешить, были для меня как прах и пепел в устах их, тогда воспоминание об этом маленьком, кротком и немом акте любви вскрывало во мне все родники страдания, превращало в розы тернии пустынь, выводило меня из горькой тоски изгнания и одиночества и мирило с израненной, разбитой, великой Мировой Душой.
Те, кто в состоянии видеть не только как прекрасен был поступок Робби, но и почему он для меня имел и всегда будет иметь такое значение, те, может быть, поймут, как, с какими мыслями могли бы они подойти ко мне.
…Первое творение, которое выпускает в свет молодой человек в расцвете лет, должно бы быть, как весенний цветок, как боярышник на лужайках Оксфорда или как первоцвет на полях Кумнера. Оно не должно отягощаться никакой ужасной, возмутительной трагедией, никакими ужасными, возмутительными поруганиями. Если бы я когда-нибудь вздумал воспользоваться своим именем, чтобы им доставить славу своей книге, это было бы большим художественным заблуждением. Это придало бы моему произведению ложное освещение, а освещение в современном искусстве значит много.
Современная жизнь состоит из сложности и относительности. Это ее отличительные признаки. Чтобы передать сложность, нам нужна среда – ее нежные оттенки, освещения, намеки, особенные перспективы; для относительности нужен фон. Поэтому скульптура – изобразительное искусство не более, чем музыка и поэзия, которая была и всегда будет изобразительным искусством par excellence.
…Каждую четверть года Робби посылает мне обзор литературных новостей. Нельзя представить себе ничего восхитительнее его писем, составленных так остроумно и искусно, набросанных так легко. Это – письма в настоящем смысле: беседа с глазу на глаз; в них – все преимущества французских causeries: в его тонкой манере поклоняться мне, он обращается то к моей проницательности, то к моему юмору, то к моему прирожденному вкусу к красоте и культуре, и на тысячу ладов напоминает мне, что многие ценили меня как arbiter elagantiarum[1], как авторитет в вопросах художественного стиля, и многие даже как высший авторитет. Таким образом он выказывает наряду с сердечным тактом и такт литературный. Его письма были как бы звеном между мной и чудным нереальным миром Искусства, в котором я когда-то был царем и остался бы им, если бы не дал завлечь себя в грубый, несовершенный мир страстей, где вкус неразборчив, а желание безгранично.
Но, несмотря на все чувство благодарности, меня, конечно, поймут или, по крайней мере, сумеют представить себе, что просто как психологический курьез мне интересней было бы услышать какие-нибудь подробности о N…, чем узнавать, что Альфред Аустейп собирается выпустить том стихов, или что… театральные критики пишут в Daily Chronicle, или что миссис Мейнель прославляется новой сивиллой стиля стараниями одного лица, которое не в состоянии даже восторженно хвалить кого-нибудь, не заикаясь…
Иные жалкие создания, брошенные в тюрьму и лишенные красоты здешнего мира, могут, по крайней мере, не слишком бояться коварнейших силков и горчайших стрел этого мира. Они могут укрыться во тьме своей камеры и сделать из своего позора нечто подобное неприкосновенному святилищу. Свет удовлетворен, свет идет дальше своей дорогой; а им представляют преспокойно страдать.
Не так было со мной.
Книгу «Саломея. Стихотворения. Афоризмы», автором которой является Оскар Уайльд, вы можете прочитать в нашей библиотеке с адаптацией в телефоне (iOS и Android). Популярные книги и периодические издания можно читать на сайте онлайн или скачивать в формате fb2, чтобы читать в электронной книге.